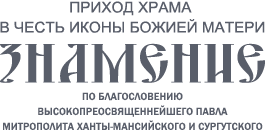Сон смешного человека. Иллюстрация: Светлана Кротова, 2002 г.
Сон смешного человека. Иллюстрация: Светлана Кротова, 2002 г.
Рассказ «Сон смешного человека» Федор Михайлович Достоевский написал в 1877 г., незадолго до начала работы над «Братьями Карамазовыми», за четыре года до своей смерти. Судя по времени написания и, главное, по поставленным в рассказе экзистенциальным «проклятым вопросам» и откровенно религиозным ответам на них, «Сон…» является своеобразным духовным завещанием писателя наряду с его предсмертным величайшим романом.
Этот рассказ называют почти полной энциклопедией ведущих тем Достоевского, в которой приоткрывается вся его идейная вселенная
С такой оценкой согласны и исследователи творчества писателя, которые называют это краткое произведение «почти полной энциклопедией ведущих тем Достоевского»[1], «как бы мозаикой из всех прежних произведений» его, переплавленных «в новое, цельное неповторимое»[2], «краткой полной историей человечества»[3] и даже «Евангелием» в миниатюре, в котором приоткрывается вся идейная вселенная Достоевского, где, как в центре круга, сходятся радиусы всех больших его романов[4].
В «Сне смешного человека» мыслитель подводит своеобразный[5] художественный итог своим мучительным размышлениям: с одной стороны – о Боге, возможности встречи и общения с Ним на Земле, о реальности блаженной жизни и Рае, с другой – о зле и тайне человеческой свободы[6]. Через призму этого рассказа можно и нужно рассматривать все творчество писателя, проникая в его таинственные глубинные смыслы.
Три ключевые темы рассказа заявлены в самом его названии – смех, сон и человек. Это те исходные точки, от которых отталкивается писатель, чтобы прийти к их экзистенциальным противоположностям. Смех – противоположность радости, сон – противоположность науке, человек – противоположность античеловеку.
Смех или Радость
Для писателя и героя его рассказа смех – символ потери человеком самого себя, отчужденности от других людей, от Бога, от самой жизни; проявление взаимного всепроникающего равнодушия – к другим и от других, к себе самому; знак раскола, разъединенности, разобщенности с миром, другими, самим собой, с Богом; выражение самоубийственной пустоты и бессмысленности существования; образ греха, тления и смерти.
Смех видится Достоевским как начало грехопадения, ибо в нем скрывается ложь, неправда, которая влечет за собой недоверие, лукавство, притворство, зависть, злобу, ненависть и все прочие страсти, «их же несть числа»[7].
«Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость…»
Смех – начало распада, разрушения, деградации первозданного райского единства личности, человечества, вселенной. Как таковой он ведет к гибели предавшегося ему и одержимого им человека.
Смех – начало распада, разрушения, деградации первозданного райского единства личности, человечества, вселенной
Ответственность за этот греховный смех и все возникающее из него зло лежит на «смешном человеке». Он и только он виноват в том, что прекрасный райский мир, в котором он очутился, превратился в ужасный мрачный ад. И сам он осознает и сознается себе в этом.
«Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех!.. причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи».
Примечательно, что «смешной человек» безымянен и потому архетипичен. В нем, как в зеркале, отражается каждый из нас. Все мы – смешные люди. Говоря о вине «смешного человека» за грехопадение в раю и за все его разрушительные последствия для вселенной и человечества, Федор Михайлович, по сути, выражает очень важную для него мысль о всеобщей личной вине каждого за все, за всех и перед всеми. Со всей определенностью мысль эта была сформулирована в словах умирающего брата старца Зосимы Маркела в «Братьях Карамазовых»:
«Всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех… воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват».
Смех противостоит серьезному, внимательному, глубокому, искреннему отношению к жизни, которое для писателя заключается ни в чем другом, как в радости. Именно радость и есть сама серьезность. Серьезнее радости ничего нет и быть не может. Радость есть изначальное чувство, исходная жизненная установка, первобытное естественное состояние человека. Смех же есть извращение радости, и потому ее противоположность, указующее на ее отрицание.
Осуждая смех, писатель, очевидно, имеет в виду насмешку, которая возникает из превосходства и превозношения над другими, из зависти, тщеславия, гордости, осуждения, гнева и других греховных страстей.
Добрый, чистый, открытый, не лукавый, радостный смех, который является выражением любви, непосредственной простоты и блаженной полноты райской жизни, Достоевский всячески восхваляет и ставит нам в пример для подражания.
Смех и радость в Библии
 Притча о потерянной драхме
Притча о потерянной драхме
Если мы обратимся к Священному Писанию, то увидим там те же два понимания смеха – отрицательное и положительное.
Пример насмешливой реакции от недоверия мы встречаем в поведении Сарры, которая рассмеялась, когда Бог сказал, что она в своем преклонном возрасте станет матерью (Быт. 18: 12).
Об издевательских насмешках иноплеменников по отношению к израильскому народу говорится в Пс. 79: 7, по отношению ко Христу – в Лк. 22: 63; Мк. 15: 17; Мф. 27: 28–29; Лк. 23: 11; Мк. 15: 29–32; Лк. 23: 36–39; Мф. 27: 42, где описываются издевательства над Господом во время Его осуждения и распятия.
В книге Иова говорится о смехе как о выражении и проявлении земного человеческого благополучия и счастья: «Он [Бог. – Т.Б.] еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием» (Иов. 8: 21), – утешает один из друзей потерявшего все Иова.
Премудрый Соломон рассуждает о праздном земном смехе и веселье с точки зрения его духовной пользы: «О смехе сказал я: “Безумие!”, а о веселье: “К чему оно?”» (Еккл. 2: 2). Он предпочитает человеческое горе такому безрассудному смеху: «Горести лучше смеха, печаль на лице – сердцу польза» (Еккл. 7: 3).
Особое место в Ветхом Завете занимают смех и радость Самого Бога. Наш Бог – живой «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3: 6). Он не равнодушен к Своему творению, Своему народу, к каждому человеку. Он эмоционально отвечает, реагирует на отношение к Себе со стороны людей, в том числе и смехом.
Согласно обетованиям пророков, Бог, с одной стороны, обязательно посмеется над Своими врагами и противниками: «Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы» (Пс. 58: 9; см. также Пс. 2: 4; Притч. 1: 26). Здесь смех является выражением торжества Божией справедливости над человеческой неправдой.
С другой стороны, Бог радуется, когда верующие в Него творят Его святую волю. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею» (Втор. 28: 63).
Как видим, есть радость Божиего гнева и радость Божией любви. От нас самих, от нашего свободного выбора за или против закона Божия зависит, какую радость Божию мы вызовем. Если люди встают на путь избавления и очищения от зла, то тем самым они доставляют радость Богу. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф. 3: 17). Это прямо соотносится со словами Христа: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15: 7).
В Новом Завете нет свидетельств о том, что Господь когда-либо предавался праздному мирскому смеху, однако неоднократно говорится о том, что Он испытывал радость (см., напр.: Ин. 15: 11 и Лк. 10: 21–24). О Мессии это было предсказано еще святым псалмопевцем Давидом: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс. 44: 8). Показательно, что самое первое чудо Господа – претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской – было совершено Им ради того, чтобы не омрачить радость брачного пира (Ин. 2: 1–11).
Не праздный плотский смех, но духовная радость о Господе – одна из важнейших христианских добродетелей
Поясняя в притчах обретение человеком Царствия Божиего, Христос говорил о величайшей радости, с этим связанной. Так, в притчах о заблудшей овце (Мф. 18: 12–14; Лк. 15: 3–7), о потерянной драхме (Лк. 15: 8–10) и о блудном сыне (Лк. 15: 11–32) радость является естественной реакцией на обретение потерянного сокровища или заблудшего сына. Царство Христово есть Царство обретения себя, ближнего, Бога, и потому оно есть Царство радости и любви.
Не праздный плотский смех, но духовная радость о Господе – одна из важнейших христианских добродетелей. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5: 16–18), – призывает апостол Павел.
Сон как Откровение
Сон для Достоевского – это вертикальный вектор, противоположный суетной, греховной, горизонтальной яви, обыденной данности, всему тому, что в Священном Писании называется лежащим во зле миром сим (см.: 1 Ин. 5: 19), князем которого является сатана (см.: Ин. 12: 31, 14: 30).
Существование по стихиям этого мира в итоге приводит человека к осознанию абсолютной пустоты, бессмысленности его жизни, к тому страшному духовному состоянию, которое святые отцы называют отчаянием или унынием, литераторы – опустошенностью, тоскою, выгоранием и равнодушием, психологи – депрессией.
«В душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно – это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно».
Без обращения к Богу люди не в силах вынести и преодолеть эту греховную страсть, они склонны обесценивать свою жизнь и зачастую пытаются совершить самоубийство в надежде исчезнуть и избавить себя от этого мучительного состояния. Это и произошло с героем «Сна».
Люди обретают Бога и общаются с Ним по-разному. Кому-то Он открывается через встречу с другим человеком или людьми, кому-то – через храм и богослужение, к кому-то приходит в горе и несчастье, к кому-то непосредственно обращается словами или является в видении, кого-то посещает во сне.
В жизни смешного человека сон был единственной тайной, через которую до него смог достучаться Господь
Герой рассказа Достоевского обратился к Богу благодаря сну. Вероятно, потому что во всем остальном он уже полностью разуверился, потому что в его явном, реальном существовании уже не осталось ничего таинственного. В жизни смешного человека сон был единственной тайной, через которую смог достучаться до него Господь. Тайна сна привела его к тайне Бога. Благодаря сну он обрел возможность выйти из своей серой пустой реальности к иному сверхреальному бытию и жизни. Именно сон позволил «смешному человеку» освободиться из плена равнодушного смеха и обрести серьезную радость.
«Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые».
Для современной науки сон остается чрезвычайно загадочным, таинственным феноменом, хотя и активно систематически изучается уже со второй половины ХIХ в. За это время было высказано множество теорий сна, которые пытаются объяснить его с разных точек зрения: физиологической, химической, психологической, информационной, медицинской. Но ни одна из этих теорий, ни все они вместе так и не смогли полностью разгадать загадку сна.
Достоевский рассматривает сон с религиозной точки зрения, которая существует с древних времен и до сих пор не утратила своей актуальности. Для него сон есть окно в иной блаженный мир, мистическое откровение священной инаковости. Во сне человеком руководит «не рассудок, а желание, не голова, а сердце», человек обращается внутрь себя и оказывается наедине с самим собой. В этом состоянии он оказывается открытым для опыта восприятия влияний иного, сверхъестественного бытия; обретает возможность, наконец, обрести себя в единстве с Богом, с миром, людьми и самим собой. Поэтому спасение человека, особенно такого заблудшего и обезверившегося, как герой Достоевского, его воссоединение со всем и вся начинается со сна.
Сон подарил смешному человеку надежду возрождения, восстановления, преображения и воскресения, веру в Бога, душу и загробное существование, любовь к ближнему, наконец. И поэтому для него такой сон ценнее, важнее, выше, реальнее того пустого бессмысленного существования, которое другие и он сам до того, как не прозрел во сне, считают и называют реальной жизнью.
Парадоксально, что сон, который мы зачастую рассматриваем как некую недо- или псевдожизнь, как выпадение из настоящей жизни, Достоевский, напротив, видит как начало возвращения к истинной жизни, как исцеление и преображение человека; сон для писателя есть не просто истинная земная жизнь, но жизнь райская, блаженная. И напротив, наша земная греховная жизнь представляется герою рассказа ужасным, страшным сном.
«Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!»
Для писателя сон есть способ познания истины, не менее, если не более важный, чем наука
Для писателя сон есть способ познания истины, не менее, если не более важный, чем наука. Через науку человек обращается к миру и самому себе. Во сне же человек умолкает, и к нему обращается Сам Бог. Потому что во сне он способен Его услышать. Ведь, когда человек находится в состоянии бодрствования, Бог просто не может до него достучаться, не может пробиться сквозь шум и сумятицу завладевшей им житейской суеты. Тихий и кроткий голос Неба заглушается оглушительным ором земных желаний и плотских страстей. Во сне же все затихает – и внешний шум мирских впечатлений, и внутренний душевный шум наших мыслей, стремлений, чувств. И в этой наступившей тишине становится слышным стук нашего сердца, готового расслышать Божий призыв.
Сон в Священном Писании
 Сотворение Евы
Сотворение Евы
В Библии говорится о сне как о неотъемлемой составляющей человеческой жизни, начиная с пребывания первого человека в Эдеме.
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью» (Быт. 2: 21) – это первое упоминание о сне в связи с созданием Богом Евы из ребра Адама.
Сны как сновидения бывают естественного и сверхъестественного происхождения. Естественные сны вызываются физиологическими и психическими причинами. Такие сны наиболее распространены и незначительны с духовной точки зрения.
«Сновидения бывают при множестве забот» (Еккл. 5: 2).
«Голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет» (Ис. 29: 8).
Сверхъестественные сновидения происходят из двух источников – от Бога или от сатаны. Поэтому они соответственно могут быть или спасительными, или гибельными по своим духовным последствиям в зависимости от того, доверяет им человек или нет. Сверхъестественные сны необычны и исключительны по своему характеру, снятся достаточно редко и не всем, но отдельным избранным людям[8].
«И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним» (Числ. 12: 6).
Сны от Бога могут присниться не только праведным, но и грешникам, не только Его последователям, но и неверным ради их вразумления и спасения, как, например, сны фараона (Быт. 41: 8) и царя Навуходоносора (Дан. 2: 1). Именно к таким можно отнести сон «смешного человека».
Особый вид снов в Писании называется лживыми или ложными снами. К ним относятся сны лжепророков, выдающих свои сновидения за Божественные откровения. Это могут быть как сны от лукавого, так и сны по естественным причинам.
«Я не посылал этих пророков, а они сами побежали… Они говорили: “мне снилось, мне снилось”… Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу? <…> Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у кого Мое слово, пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном?» – говорит Господь (Иер. 23: 21–32).
«Вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые» (Зах. 10: 2), – вторит Иеремии пророк Захария.
Таким образом, согласно Слову Божиему, мы призваны с трезвой осторожностью относиться к тому, что нам снится. Ведь «сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению» (Сир. 35: 7). Духовная трезвость главным образом должна выражаться в страхе Божием, смирении, покаянии, в доверии Богу, Его слову, а не снам. По отношению к ним верующий должен руководствоваться словами премудрого Соломона: «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты; но ты бойся Бога» (Еккл. 5: 6).
Поэтому святые отцы хотя и признают, что бывают сны от Бога, однако ввиду чрезвычайной сложности для христиан отличия этих снов от диавольских наваждений и ради того, чтобы верующие не впали в искушение, призывают их в принципе не верить снам. В православной аскетике даже выделяется особая добродетель:
«Совершенно не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней»[9].
Откровение и милосердие
Божественное Откровение всегда обращено к сердцу человеческому. Но услышать это откровение возможно лишь тогда, когда сердцу ничего не мешает, ничто не отвлекает от слушания и слышания (см.: Мф. 11: 15; 13: 9, 43; Лк. 11: 28; Откр. 2: 7), когда в нем царит внутренняя и внешняя тишина. Сон способствует сердечной тишине, которая в свою очередь позволяет человеку услышать обращенный к нему глас Божий. Если глаза – это зеркало души, то сердце – ее ухо, благодаря которому мы можем слышать Бога. А раз слышать, то и верить. Ибо, по слову апостола Павла, «вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10: 17).
Если глаза – это зеркало души, то сердце – ее ухо, благодаря которому мы можем слышать Бога
Согласно Писанию и святым отцам, сердце – это не только и не столько жизненно важный телесный орган, отвечающий за движение крови по организму, но само средоточие духовной, душевной и телесной жизни. В сердце сходятся и из него исходят все проявления нашего разумно-свободного существования, которое, таким образом, целиком кардиоцентрично[10].
Современному человеку это трудно понять и принять. Ведь в современной светской культуре сердце представляется как символ человеческих эмоций, главным образом влюбленности. Библейское понятие «сердца» сегодня нуждается в переводе и истолковании. Наиболее точным переводом «сердца» с церковного русского на светский русский, по нашему мнению, будут такие два синонимичных слова, как «я» и «личность»[11].
Необходимым условием принятия вещего, откровенного сна, его преддверием, по Достоевскому, является хотя бы малейший живой отклик сердца на просьбу ближнего, наималейшая внутренняя реакция сочувствия к нужде и страданию другого, чуть расслышанный голос, чуть заметное движение совести. Для принятия откровения от Бога, для встречи с Ним, Который есть Сама Любовь, Само Благо и Сама Милость, человеку необходимо и самому проявить милость к другому. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», – сказал об этом Христос (Мф. 5: 7).
Нуждающегося в милосердии ближнего в рассказе олицетворяет маленькая беззащитная девочка, которая с отчаянными слезами просит о помощи незнакомого ей «смешного человека». При этом девочка – это, по сути, единственный персонаж из падшего мира, которому не все равно; для нее «смешной человек» – и не смешной вовсе, она относится к нему по-настоящему, всерьез, с надеждой и верой. Потому что страдает, переживает за свою тяжко болеющую маму. Таким образом, страдание рождает настоящее, искреннее отношение и обращение к ближнему, которое в свою очередь порождает ответное серьезное отношение.
И хотя «смешной человек» внешне нисколько не помог девочке и даже равнодушно и грубо отказал, тем не менее ее просьба неизъяснимым образом задела, затронула что-то живое, человеческое в сердце героя. В конце концов, эта встреча удержала, спасла его от самоубийства, позволила ему узреть Божий сон, покаяться и обрести спасение.
Можно сказать, что в лице этой бедной, заплаканной девочки на промозглой петербургской улице к нему подошел Сам Христос, и даже малейшего, невидимого для глаз внутреннего душевного беспокойства героя стало достаточно для его духовного исцеления. Здесь Достоевский идет даже дальше слов Спасителя: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18: 5; см.: Мф. 25: 40). «Смешной человек», по видимости, не принял и даже оттолкнул такое дитя; он лишь чуть изменился внутри, потерял свое безнадежное унылое равновесие, уязвился некой тенью сочувствия и сострадания, в нем шевельнулось что-то человеческое. Но и этого было достаточно для его исцеления и спасения.
«И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка… Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении».
Милосердный Господь уцепился за этот малейший росток сострадания в душе «смешного человека», чтобы обратить его к Себе
Милосердный Господь уцепился за этот малейший росток сострадания в душе «смешного человека», чтобы обратить его к Себе. Милосердие и Откровение – именно они, по Достоевскому, суть два крыла, возносящие и соединяющие нас со Христом. Два главнейших способа и ступени истинного самопознания – живого, личного, опытного, непосредственного, простого, чистого, детского, евангельского познания «лицом к лицу» (Исх. 33: 11; 1 Кор. 13: 12).
Откровение или наука
Такое милосердно-откровенное познание совершенно противоположно тому познанию, которое предлагает современная писателю и нам наука, познанию абстрактному, рациональному, отстраненному, отчужденному, объективному, экспериментально-математическому и потому мертвому. В науке актуализирует, воплощает себя тот «эвклидовский разум», о котором Достоевский говорил еще в своих «Записках из подполья» (1864)[12].
Враждебный личности «эвклидовский ум» Достоевского поразительно соотносится с «мудростью мира сего», от обольщения которой предостерегает нас апостол Павел:
«Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: “уловляет мудрых в лукавстве их”. И еще: “Господь знает умствования мудрецов, что они суетны”» (1 Кор. 3: 18–20).
По убеждению писателя, вопреки всем горделивым заявлениям мирской науки, она не способна решить самую главную проблему человека – проблему отчуждения и забвения самого себя, проблему счастья. При всех своих бесконечных претензиях и поражающих воображение достижениях наука только расширяет и углубляет пропасть между людьми и миром, между человеком и Богом.
Наука не способна решить самую главную проблему человека – проблему отчуждения и забвения самого себя, проблему счастья
Сам ее взгляд на реальность, сама ее исходная установка, ее методологический подход предполагают дистанцию, расстояние, зияние между познающим и познаваемым, между субъектом и объектом, между сознанием и жизнью, между знанием и счастьем.
«“Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья” – вот с чем бороться надо!» – заявляет преображенный герой Достоевского[13].
Научный взгляд – это всегда взгляд со стороны, извне, взгляд отстраненного холодного субъекта, вооруженного мертвыми техническими инструментами на препарируемый в экспериментах объект исследования.
Заполняя наш рассудок все новой и новой информацией, давая нашей воле все новые и новые инструменты научно-технический прогресс, она, по сути, отвлекает и уводит человека от себя, обращает его внимание на внешнее – на многосложный суетный мир, где его внимание рассеивается и распыляется в бесконечность. Тем самым мирская наука переориентирует человека от жизни к сознанию, от души к телу, от духа к материи, от вечности ко времени, от аскетического спасения к гедонистическому потреблению.
Мирская наука или не интересуется, или вовсе отрицает Бога, душу, вечную жизнь. Все эти вопросы объявляются вненаучными или даже антинаучными. Если же сознание человека замыкается в рамках одной лишь земной науки, его жизнь обедняется, опустошается, лишается своего духовно-религиозного измерения. Место духа (ума) у таких людей занимает рассудок, рацио, место души – сознание.
Научное познание аналитично, а не синтетично. Цель науки – добыча знания, которое увеличивает силу, могущество человека и дает ему власть над миром. «Знание – сила», – сказал в свое время об этом Фрэнсис Бэкон. Наука разделяет, чтобы властвовать, а не соединяет, чтобы смиряться.
Научное знание и истина кардинально отличаются от богооткровенных знания и истины. Откровение есть просвещение человека изнутри, из самого сердца, просвещение нетварным благодатным светом, который воссоединяет человека с Богом, миром, самим собой и другими людьми.
Божественная наука или мудрость открывают человеку всемогущего непостижимого Бога и тем самым приводят его к благоговейному страху, смирению, покаянию, кротости, благодарности, радости и любви.
Мирская наука или мудрость, напротив, открывают человеку подвластные ему силы природы, социума, сознательного и бессознательного, тем самым давая пищу и потворствуя его гордыне, тщеславию, сребролюбию, властолюбию, самооправданию и лукавству.
«Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья», – исповедуют падшие и возгордившиеся люди из сна «смешного человека».
Своим аналитическим методом наука разлагает сущее на части, доходя до мельчайших из них (атомов и субатомных частиц). В применении к личности и обществу этот подход ведет к их атомизации, то есть к потере органической живой целостности, к разделению, разобщению и распылению, к тому, что сам Достоевский называл разъединением и обособлением.
Мирская наука не спасительна. Она не спасает от зла, то есть от внутренней и внешней разъединенности с Богом, отчужденности от Него, ближних и самого себя. Напротив, наука сама является следствием, порождением этой отчужденности, а также могущественным фактором ее усиления и усугубления.
«Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука».
Спасение, по Достоевскому, заключается в простом, непосредственном, радостном и полном единении с собой, миром, другими и Богом
Спасение, по Достоевскому, заключается в простом, непосредственном, радостном и полном единении с собой, миром, другими и Богом.
«Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить… У них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной».
Это спасительное единение возможно лишь при условии отказа от горделивого сциентизма, от веры в человеческую науку, шире – от основанной на ней веры в человеческую культуру и цивилизацию, символом которой выступает библейская Вавилонская башня (см.: Быт. 11: 4–9). И мирская наука, и светская культура, и человеческая цивилизация суть “земляные” по своей сути и образу существования. Все они порождены землей, сосредоточены на земле, устремлены к земному и, в конце концов, находят свой конец в земле. «Ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19).
Человек или античеловек
Человек же на самом деле взыскует не Земли, но Неба, не времени, но Вечности, не смерти, но жизни. Чтобы обрести все это, ему нужно познать себя настоящего. Чтобы познать себя, необходимо вернутся к себе – первозданному, райскому, еще не падшему, святому.
Для Достоевского познать себя возможно лишь в сотрудничестве с Богом, благодаря Его благодатной помощи в ответ на стремление к Нему измученной человеческой души. Чтобы обрести себя, нужно войти в себя и уже оттуда, из себя, посмотреть вверх, горе, в Небо как в правдивое духовное зеркало. Осуществить это возможно через личное сочувствие, милосердие к ближнему и личное же Божественное откровение, проводником которого для писателя является не всякий, но особый, судьбоносный и экзистенциальный сон.
Мистический откровенный сон удваивает реальность, показывает нам высшую идеальную райскую Землю, населенную блаженными безгрешными людьми.
«Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем».
Тем самым писатель ставит нас перед обличительным зеркалом, в котором, с одной стороны, мы видим себя во всей своей наличной греховной падшести, с другой – созерцаем себя такими, какими по замыслу Божиему мы уже были в самом начале человеческой истории и какими должны стать уже здесь и сейчас, не дожидаясь ее конца, во всей красоте своего предвечного призвания и предназначения.
Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей
«Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».
Те, кто пережил опыт милосердия и откровения, обретают себя в новой жизни, преисполняются духом, смыслом, радостью, верой, надеждой и любовью ко всем и вся. Так и произошло с героем рассказа.
Он был в начале и остался в конце «смешным человеком», но это два совершенно разных человека. Первый «смешной человек» до сна – это падший, пустой, равнодушный и злой человек, в котором почти не осталось ничего человеческого. По сути, это античеловек. Он был смешон для других и себя, и другие были ему смешны, потому что он сам был безразличен и чужд всем и вся.
Второй «смешной человек» после сна – воскресший от духовной смерти, благодатно преображенный, познавший высшую Истину, праведный человек, полностью посвятивший свою жизнь Богу и ближнему. Здесь вспоминаются слова Отца из притчи о блудном сыне: «Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24). Это настоящий истинный человек. Он еще смешон для других, но уже не для себя. Другие продолжают смеяться над ним, потому что они еще пребывают в духовном заблуждении и сердечном помрачении. Раньше они смеялись над ним как над одним из них. Теперь же они смеются над ним как над отделившимся от них, непонятным и чужим юродивым, человеком не от мира сего (см.: Ин. 15: 19).
«Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной – и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, – не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут».
Сон делит жизнь «смешного человека» на «до» и «после», подобно тому, как человеческая история была разделена надвое пришествием в мир Сына Божия. Так же жизнь каждого верующего разделяется на период до обращения ко Христу и период спасения со Христом. Благодаря пережитому опыту откровения и обращения к Богу у человека появляются бесконечные силы жить, смиряться, терпеть, нести свой крест, бороться со злом, верить, надеяться, любить, радоваться и благодарить Христа. При этом внешние обстоятельства жизни человека или вообще не меняются, или становятся еще даже тяжелее.
«О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!»
«Сон смешного человека», по сути, является кратким Евангелием от Достоевского, поскольку говорит нам о Царствии Божием, пришедшем в силе
«Сон смешного человека», по сути, является кратким Евангелием от Достоевского, поскольку говорит нам о «едином на потребу» (см.: Лк. 10: 42) – о Царствии Божием, пришедшем в силе (Мк. 9: 1), которое не где-то там ожидает и не когда-то потом наступит, но в котором каждый может жить уже здесь и сейчас, которое здесь и сейчас уже живет в каждом верующем. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: “Вот, оно здесь”, или: “Вот, там”. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 20−21).
«Главное, – завещает нам Достоевский, – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться… Если только все захотят, то сейчас все устроится».
В этих словах, с одной стороны, можно увидеть мысль блаженного Августина «Люби – и делай, что хочешь»[14], с другой – заветную мысль самого писателя о том, что причина нашего счастья или несчастья кроется в нас самих и от нас же самих всецело зависит. Как выразил это умирающий брат старца Зосимы Маркел в «Братьях Карамазовых»:
«Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай… Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай».